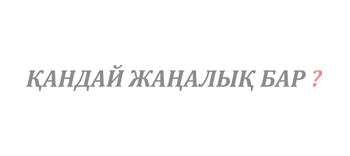С какими проблемами сталкивается казахстанский бизнес при передаче активов преемникам
«Буду ждать долго, как английский принц», – шутит 32-летний Артур Андреев при обсуждении вопроса, когда именно его мама, глава компании, собирается передать сыну семейный бизнес.
Специалисты говорят, что ребёнка в бизнес-преемники надо готовить с рождения, в компании он должен пройти все карьерные ступени, чтобы затем возглавить её. Что ещё нужно знать предпринимателям при передаче активов наследникам, выяснил «Курсив».
Воспитательный момент
Мама, папа, я и моя жена – так сейчас выглядит коллектив Артура Андреева. Он ещё в студенчестве стал помогать родителям-врачам, которые в 1990-х начали свой бизнес – оказывают косметологические услуги и продают уходовую косметику. Елена Андреева, мама Артура и глава Magiray Kazakhstan, говорит, что у неё не было явных причин или осознанного плана по привлечению единственного сына к семейному бизнесу.
«Все получилось само собой, – признается она. – Когда Артур стал учиться в вузе (у него образование в области PR и маркетинга), я от него узнала, что в этой сфере многие вещи, которые я делала по наитию, изучены, их можно делать правильно. Артур мне стал подсказывать по маркетингу».
После вуза Артур некоторое время работал на «чужого дядю», а восемь лет назад перешел в семейную компанию, к которой позже присоединилась и его супруга Альфия. Если опираться на правила преемственности в бизнесе, о которых говорит коуч, глава компании Grow ltd Галия Багдат, то готовить своих детей к наследованию бизнеса нужно с их рождения.
«Плохо, когда начинается подготовка с шести-семи лет, – говорит Галия Багдат. – Чтобы переход бизнеса был безболезненным, преемнику нужно ещё самому поработать десять лет в компании – снизу доверху, чтобы понять, что происходит».
Проблема в том, что жители Казахстана очень трепетно относятся к детям, родители стараются дать им все то, чего не было у них самих.
«Но здесь есть вторая сторона медали: у детей атрофируется желание что-то делать, – отмечает Галия Багдат. – Вторая масштабная проблема (не только у нас, но и во всем мире) – дети не хотят продолжать дело отца, потому что в воспитании изначально ставили задачу «чтобы тебе было хорошо».
Елена Андреева выбрала другую стратегию поведения по отношению к сыну и невестке: она с них требует по полной.
«Потому что понимаю: это задел на будущее, в том числе на нашу с мужем обеспеченную старость», – объясняет предпринимательница.
«Если бы нам было по 16 лет, может, мы бы и не хотели работать, – предполагает Артур. – А сейчас мы уже понимаем: это наше – чего отлынивать?»
От осинки родятся апельсинки
У Андреевых в компании уже произошло разделение сфер ответственности. Мама занимается общим управлением и неинъекционными косметологическими процедурами, отец полностью отвечает за инъекционные вещи. На Артуре – маркетинг и интернет-продажи. Именно онлайн-продажи стали сферой, где сын «властвует единолично».
«Если бы я не поднял вопрос по продажам нашей косметики на маркетплейсах, мама, может, и не задумалась бы. Она даже не видела эту опцию, потому что все покупает в обычных магазинах», – объясняет Артур.
Елена кивает в знак согласия и добавляет, что стала все больше функций передавать сыну, а также невестке, которая и бухгалтерией занимается, и практикует как косметолог-эстетист. В будущем, когда Елена и её супруг уйдут на покой, это даст возможность самостоятельно набирать персонал в
компанию.
«Альфия лучше меня может оценить человека на позицию косметолога», – признает Артур.
Андреевы смогли удачно обойти препятствие, на которое часто натыкаются семейные предприниматели, – разногласия относительно ожиданий и ролей в компании.
«Преемники могут иметь своё видение развития бизнеса, что может противоречить уже устоявшимся практикам», – говорит Тимур Омашев, партнёр практики консалтинга KPMG Caucasus and Central Asia.
Такие противоречия порой возникают, когда детей отправляют учиться за границу.
«Там они попадают в другое окружение, с другими ценностями, им сложно возвращаться в Казахстан, где бизнесмены заточены не на стратегическое управление, а на тушение пожаров», – объясняет Галия Багдат.
В качестве «хрестоматийного примера» она приводит семью, где отец-бизнесмен авторитарно управляет своим производством, выжимает по максимуму из рабочих, а о таких вещах, как страховка сотрудников, даже не думает.
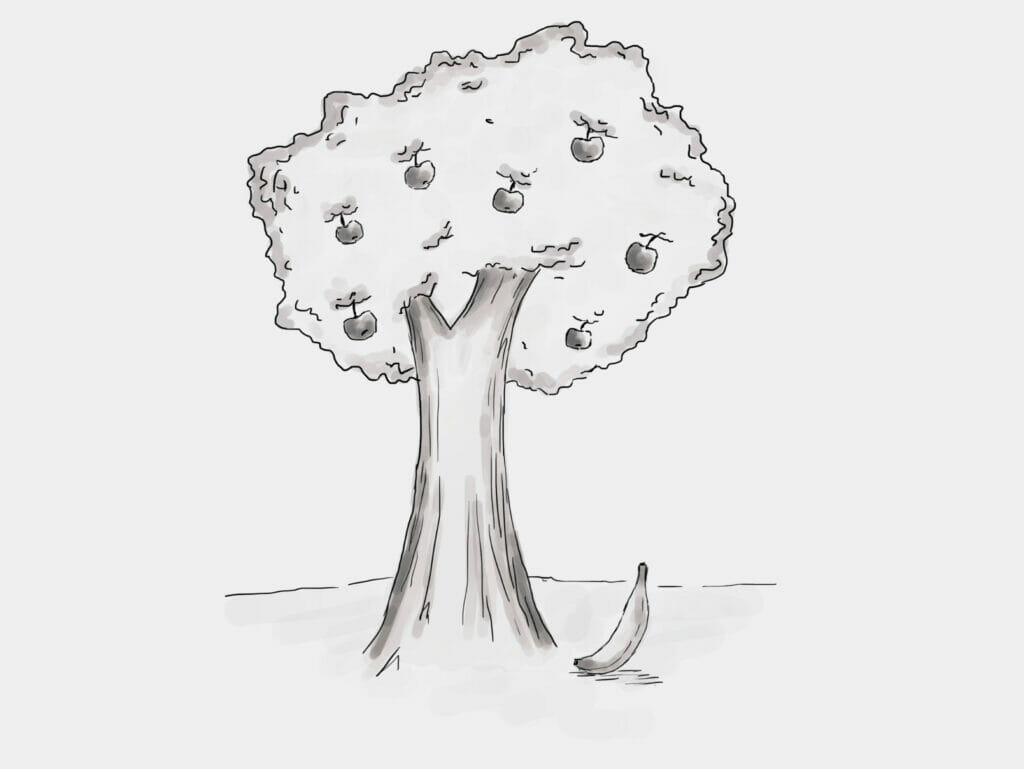
«И тут сын приезжает из Европы, где он видел другую корпоративную культуру, где заботятся о сотрудниках, в общем, ребёнок «за мир во всем мире». Папа на это отвечает: «Какой мир во всем мире?! Здесь жесткий бизнес, надо выживать». В таких ситуациях у детей происходит когнитивный диссонанс, они не хотят управлять таким бизнесом, а родители начинают давить», – говорит Галия Багдат.
Она предлагает такой выход для авторитарных собственников: не отправлять детей за границу, чтобы они не отрывались от сложившейся культуры, от особенностей ведения бизнеса.
Плановая экономика
Существуют и другие способы минимизировать риски при передаче бизнеса.
«Часто проводятся отдельные интервью с владельцем и его детьми, потому что дети не всегда готовы напрямую сказать, что им это неинтересно или что они лучше разбираются в другой сфере. Это позволяет понять их индивидуальные интересы и амбиции. После этого создается карта, которая отображает, кто и что желает получить, а также какие навыки и умения потребуются для достижения определенных целей», – описывает механизм Владимир Фесенко, партнёр EY, руководитель практики консультационных услуг по управлению персоналом в Казахстане.
После того как план передачи определен, создается соответствующая юридическая структура, чтобы обеспечить правовую и организационную основу для передачи бизнеса.
«Каждая семья и бизнес имеют свои особенности, поэтому рекомендуется обратиться к специалистам в области семейного бизнеса, наследственного права и к юридическому консультанту, чтобы разработать индивидуальный план, учитывающий уникальные потребности и цели семьи», – предлагает Фесенко.
В семье Андреевых формализованного плана передачи бизнеса нет – и в этом они не уникальны.
«В Казахстане не всегда юридически оформляют отношения с родственниками: у нас это находится вне зоны морали, в нашей культуре считается постыдным говорить о деньгах, о границах, о зоне ответственности, – говорит Галия Багдат. – Считается, что родственникам ты должен верить на слово. Но это уже конфликт».
Впрочем, Казахстан с этой точки зрения тоже не уникален.
«По различным исследованиям, в США, Европе и Азии только у половины семей есть план преемственности, а формализован на бумаге он, в свою очередь, лишь в половине этих семей», – приводит данные Геннадий Ванин, руководитель офиса консалтинговой компании Korn Ferry в Казахстане.
Ваше время истекло
Камнем преткновения при передаче активов может стать точная дата ухода из бизнеса основателя или представителя старшего поколения.
«Когда европейским состоятельным семьям задавали вопрос о наиболее серьёзных проблемах, с которыми они сталкиваются в отношении преемственности, самым часто упоминаемым фактором был дискомфорт при обсуждении чувствительных вопросов (32%), за которым следовало нежелание основателя уступить контроль (25%)», – рассказывает Геннадий Ванин.
Елена Андреева не сомневается, что сможет спокойно отдать сыну бразды правления и работать в компании как косметолог.
«Я смогу не лезть в управление, – уверена глава Magiray Kazakhstan. – Я научилась уже принимать какие-то вещи. Даже если мне иногда кажется, что Артур делает что-то не так, я думаю: «Может, это я неверно мыслю?»
Когда именно произойдет передача полномочий, в семье ещё не решили, и для них это стало предметом шуток.
«Порой, когда начинаем спорить, я ему предлагаю: «Всё, забери», – рассказывает Елена. – Правда, Артур говорит мне: «Ты только грозишься». «Конечно, а то буду сидеть, как английский
принц», – смеется Артур.
В Европе 20% основателей сомневаются в своих детях при передаче бизнеса.
«В Азии тоже лишь 20% сомневаются, – делится данными Геннадий Ванин. – При этом в США примерно в половине случаев передачи бизнеса детям основатель вообще не видит у них достаточного уровня квалификации, чтобы отдать им ответственность за управление бизнесом».
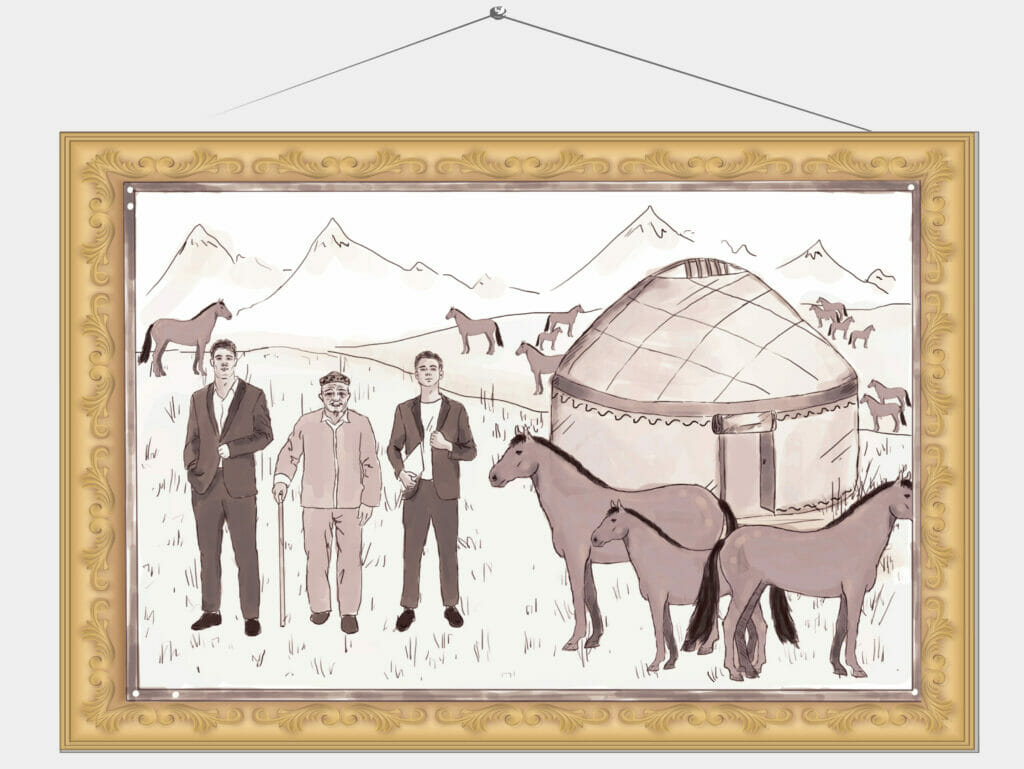
Ванин говорит, что иногда хорошим решением может стать создание почётной роли:
«К примеру, пожизненного президента, который будет направлять, предупреждать и давать советы, но не принимать решений вместо сменяющего поколения».
Отцы и дети
«У нас с мамой разногласия по основной массе моментов», – рассказывает Артур Андреев о своих рабочих буднях. Но вспомнить, о чём именно спорят, ни он, ни его мама долго не могут, говорят, что быстро все перемалывается: «Вечные компромиссы – это наше перманентное состояние».
«У мамы есть любимая история – заморочиться на чем-то, – припоминает Артур. – Вот понадобились нам срочно лифлеты о скидках. Мама сразу попыталась потратить уйму человеко-часов и денег, чтобы сделать новые. Но у нас тысяча рекламных листков лежит уже полтора года. Я решил, что будем использовать их – о скидках от руки допишем. Мамина дотошность – это не есть плохо, просто не всегда это нужно».
Елена говорит, что в таких ситуациях учится у сына:
«Я вижу, что действительно можно в каких-то моментах не убиваться».
Артур у мамы тоже многое позаимствовал.
«Работоспособность, умение идти вперед вопреки всему, – перечисляет он. – У неё есть такое в характере: не пустили в дверь – зайди в окно. Это не про меня. Но я понимаю, что иногда по-другому никак – надо заходить в окно».
Такие отношения – это маркер, что наследование бизнеса с большой долей вероятности пройдёт безболезненно.
«Лучший переход происходит тогда, когда обе стороны – уходящее поколение и следующее поколение – способны и готовы учиться друг у друга», – отмечает Ванин.
А вот нездоровая семейная политика (конфликт отцов и детей, соперничество между разными ветвями семьи) может обернуться серьёзными проблемами. В бизнес-группах, которыми владеют семьи, нередко можно встретить десяток членов семьи. При этом часто даже сотрудникам компаний сложно понять, кто из родственников унаследует бизнес, а кто просто «пожизненно трудоустроен на нерыночных условиях» и не имеет решающего голоса.
«Таким образом, система отношений усложняется, появляются различные группировки, губительно сказывающиеся на результатах бизнеса. По статистике, большая часть семей теряет богатство в третьем поколении, поэтому принципы наследования и преемственности стоит заложить и структурировать как можно раньше», – предлагает Ванин.
«Но до того, как передать во владение, нужно понять, что именно будете передавать», – советует Дониербек Зулунов, партнёр EY, руководитель практики консультационных услуг по международному налогообложению в Центральной Азии.
Спасибо, что живой
«Часто бывает, что активы зарегистрированы на третьих лиц: на родственников, доверенных лиц или партнёров, – приводит примеры Дониербек Зулунов. – Поэтому проведение внутреннего due diligence активов, то есть выяснение, где они находятся и на кого зарегистрированы, а также определение необходимости в том или ином активе в будущем, является необходимым шагом».
После того как активы определены, нужно понять, что именно хотите сделать с этим имуществом.
«Один из вариантов – создание группы компаний, владение которыми будет юридически принадлежать самому бизнесмену, чтобы он мог дальше рассматривать способы передачи этих активов наследникам», – говорит Зулунов.
В Казахстане собственники, которые при жизни решили передать бизнес преемникам, активнее всего используют такой инструмент, как продажа за сумму в размере уставного капитала.
«У нас размер уставного капитала копеечный в большинстве даже крупных компаний – 100 тенге, 1000 тенге. То есть это номинальная продажа», – говорит Аркадий Гайдаш, магистр юридических наук, сеньор-лектор Caspian University, специализирующийся на наследственном праве.
Юрист объясняет, что предприниматели не выбирают механизм дарения, потому что, во-первых, у госорганов иногда возникает вопрос: «Почему ты даришь?» Во-вторых, если участник в течение трёх лет решил продать подаренное ТОО, ему придётся платить ИПН.
«Он может отдать ТОО в доверительное управление. Это не особо распространенная ситуация, но такой инструмент есть, и он работает. Или собственник ставит директором доверенное лицо (может, и родственника), уставом ограничивает его полномочия – например, без права продажи недвижимости. В этом случае компанию разграбить тяжелее. Кроме того, собственник может отменить решения директора, если менеджер превысил свои полномочия», – перечисляет преимущества Аркадий Гайдаш.
Елена Андреева говорит, что никаких бумаг о передаче компании ребёнку не оформляла:
«Зачем? И так ясно, что сыну все достанется».
«А зря», – предупреждают эксперты.
Если не озаботиться этим при жизни собственника компании, то после его смерти перед наследниками могут разверзнуться врата юридического ада.
История со смертельным началом
«Смерть не исход, со смертью владельца все только начинается», – говорит Аркадий Гайдаш.
Проблема в том, что существует шестимесячный срок, в течение которого наследники подают заявление о принятии наследства, собирают необходимые документы. В этот период, до получения свидетельства о праве на наследство, они не являются владельцами бизнеса, они только потенциальные наследники, значит, не могут управлять компанией.

«Но что будет в течение шести месяцев? Сын будет бегать вокруг базы и кричать: «Я наследник! Я наследник!» Ему скажут: «Мальчик, иди отсюда. Будет у тебя бумажка, придёшь, а сейчас не мешай дядям работать», – обрисовывает нерадужные перспективы Гайдаш.
Более того, после смерти человека могут вскрыться всевозможные «санта-барбары»: появляются наследники, которые живут в других странах, дети, которые родились от любовниц; выясняется, что умерший состоял в браке, а там был брачный договор.
«На разбирательства, кто является наследником и какая доля достанется каждому, может уйти и год, и два. В этот период в компании начинают совершаться неэффективные сделки, переписываются активы – иными словами, компании разворовываются директорами и менеджерами. Потенциальные наследники, даже если знают о происходящем, ничего сделать не могут, в полицию заявить не могут: у них нет соответствующего статуса», – говорит Аркадий Гайдаш.
Ситуация может усложниться, если собственник оставил после себя долги.
«Наследство представляет собой переход имущества на условиях универсального правопреемства, то есть к наследнику переходят как права, так и обязательства наследодателя», – разъясняет Динара Танашева, партнёр EY, руководитель практики налоговых и юридических услуг в Казахстане и Центральной Азии.
Наследникам нужно тщательно обдумать, хотят ли они принимать наследство, если наследодатель имеет задолженность.
«Законодательство Казахстана предоставляет наследникам срок в шесть месяцев с момента открытия наследства для заявления своих прав на наследство или отказа от
него», – уточняет Танашева.
Однако кредиторы имеют право предъявить свои требования в течение срока исковой давности, то есть в течение трёх лет.
«Возможно, наследники не осведомлены о существовании таких обязательств, и если бы они о них знали, то, возможно, отказались бы от принятия наследства», – говорит о подводных камнях принятия наследства Динара Танашева.
Эта ситуация может быть осложнена ещё и безвластием, которое царит в компании, когда идёт оформление наследства. Здесь такая тонкость: наследники отвечают по долгам с момента смерти наследодателя. Но в права вступают с момента получения свидетельства о наследстве (через шесть месяцев или позже). В этот «транзитный период» условные 500 млн тенге, которые были у наследодателя в виде активов, могут просто украсть. Однако 200 млн в виде долгов останутся.
«Кредиторы приходят и говорят: «К вам перешло наследство в размере 500 миллионов. Будьте добры, отдайте долги 200 миллионов». – «Но у нас всё растащили». – «Это не наши проблемы». И наследникам ничего не остается делать, кроме как выворачивать свои карманы: продавать дома и квартиры, залезать в кредиты, чтобы оплатить долги умершего, – рассказывает о реальных случаях Гайдаш. – Если владельцы бизнеса не заботятся при жизни о том, что будет после их смерти, то топят так своих наследников, что те могут и не всплыть».
Однако у наследников есть шанс избежать безвластия.
«Любой из потенциальных наследников может пойти к нотариусу, ведущему наследственное дело, и попросить его назначить доверительного управляющего, чтобы имущество не растащили, – советует Гайдаш. – Это разрешено, так как управляющий будет действовать не в интересах этого конкретного человека, который пришел с просьбой, а в интересах наследников, которые будут определены позже».
Красивое завещание
Эксперты сходятся во мнении, что главный способ предотвратить развал компании после смерти собственника – написать завещание при жизни. Однако в Казахстане не принято этого делать. «В тех делах (по разделу наследства), которые я вижу, катастрофически мало завещаний, а проблем, связанных с наследованием бизнеса, очень много», – делится наблюдениями Аркадий Гайдаш.
Он объясняет это менталитетом: люди считают, что писать завещание – дурная примета:
«И даже если пишут, то простенькие: «Завещаю всё своё имущество имярек». Конечно, хорошо, что есть хоть такое завещание, оно не позволяет всем родственникам разругаться в течение шести месяцев».
Но если говорить о качественном завещании человека, который понимает, что кто-то должен управлять активами, пока не получено свидетельство о наследстве и наследники не вступили в свои права, то в этом завещании будет указан душеприказчик – исполнитель завещания. Это доверенный человек, который, по мнению завещателя, способен управлять бизнесом и который буквально на следующий день после смерти завещателя имеет право принять на себя управление всем, что есть в наследственной массе, и получать за это вознаграждение.

«Душеприказчик весь период, пока не появятся законные наследники, может управлять и сохранить имущество. То есть периода безвластия не будет», – говорит о преимуществах Гайдаш.
Он перечисляет ещё ряд прописанных в казахстанских законах инструментов, которые позволят «красиво и правильно настроить завещание». Это завещание с условиями, подназначение наследников, легат (наследник должен выполнить какое-либо обязательство за счёт наследства).
«Но этими инструментами редко пользуются. Поэтому у нас ни нотариусы, ни госорганы, ни банки, к примеру, не знают, кто такие душеприказчики и как с ними работать. Каждый раз приходится показывать Гражданский кодекс, объяснять, что тебе как душеприказчику обязаны предоставить доступ к имуществу, информации и так далее», – рассказывает Гайдаш.
Динара Танашева добавляет:
«В завещании вы можете указать как своих родственников, так и других лиц, которых желаете включить в наследование, без необходимости объяснять своё решение. Это даёт возможность контролировать распределение наследства в соответствии с вашими пожеланиями».
При этом всегда существует риск, что завещание может быть оспорено, предупреждает Танашева. Поводом для иска в суд может стать исключение из завещания несовершеннолетнего или нетрудоспособного ребёнка, так как они имеют право на долю независимо от завещания.
«Если предвидятся проблемы, которые могут привести к оспариванию завещания, то можно рассмотреть инструменты, которые предполагают отсутствие права собственности, такие как учреждение траста», – предлагает Дониербек Зулунов.
Трасты можно создавать в странах, где действует английское или схожее с ним право.
«Вы можете передать активы в траст, указать профессионального управляющего и определить бенефициаров имущества. Вы также можете установить различные условия, связанные с получением выгод из траста бенефициарами (например, доли наследства) в зависимости от достижений или поведения наследников: «если достигает отличных результатов в учебе, то получает 20%, а если учеба неудовлетворительная, то ничего не получает», – перечисляет варианты Зулунов.
Аркадий Гайдаш также рекомендует сообщить хоть кому-нибудь об оставленном завещании:
«Иначе оно всплывает только через шесть месяцев после смерти завещателя, и оказывается, что наследники не те, кто себя таковыми считали, а «моя первая любовь и её сын». Тогда все переворачивается с ног на голову».
Перевернуть жизнь наследников вверх тормашками могут и нормы в казахстанском законодательстве, касающемся долей в ТОО.
Видит око, да зуб неймет
В Казахстане долго не решался вопрос, с какого момента возникает право собственности на ТОО – с момента совершения сделки (дарение, купля- продажа, вступление в наследство) либо с момента государственной перерегистрации ТОО? В 2018 году внесли поправки, которые однозначно ответили на этот вопрос: с момента государственной перерегистрации. То есть новые собственники, те же наследники, считаются владельцами ТОО (или доли в ТОО) только после официальной перерегистрации компании.
«Но загвоздка в том, что для перерегистрации нужно решение общего собрания», – указывает на проблему Аркадий Гайдаш и рассказывает о реальном случае, когда совладелец ТОО (70%) умер и 100%-ная власть перешла в руки совладельца с 30%.
«Через шесть месяцев приходят наследники семидесяти процентов и говорят: «Давайте созовем общее собрание». А право на созыв общего собрания имеет кто? Участники. А наследники становятся участниками с какого момента? С момента перерегистрации. Чтобы пройти перерегистрацию, нужно решение общего собрания, которое не созывает партнёр с 30%-ной долей и 100%-ными полномочиями», – рассказывает юрист о замкнутом круге, в который попали
наследники.
Не смог разорвать этот порочный круг даже суд, потому что не имеет права принимать решение за общее собрание.
«Эта история длилась много лет. Она закончилась договоренностью. «Тридцатипроцентный» отдал определенную сумму наследникам, чтобы ему не досаждали. Но эта сумма была гораздо ниже той, на которую первоначально могли рассчитывать наследники. И это не единственная история», – утверждает Гайдаш.
Он поясняет: как общее правило такой способ возникновения права собственности – с момента перерегистрации – разумен. Потому что раньше люди продавали компании, оформляя сделки у нотариусов, но в государственных базах оставались владельцами. Из-за этого возникали
проблемы при взыскании налогов или долгов по кредитам, которые набрала компания.
«Однако, как только мы говорим об этом элементе в наследственных взаимоотношениях, получается замкнутый круг. До появления этого правила наследники получали свидетельство о наследстве и сразу становились участниками ТОО», – вспоминает Гайдаш.
Законодатель, по словам юриста, может внести соответствующие поправки. Но у этих поправок должен быть инициатор, который проведет их через все инстанции и в нужном виде доведет до парламента.
«Пока такого у нас не произошло», – констатирует Аркадий Гайдаш.